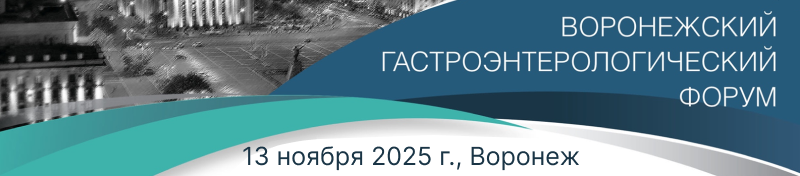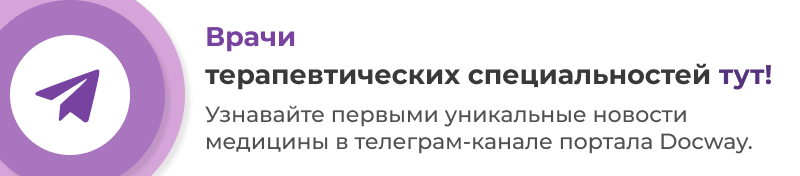тест markdown
Диалог с анатомией и временем
Интервью с профессором Николаем Александровичем Григорьевым
Руководителем урологической клиники Европейского медицинского центра,
профессором кафедры урологии Сеченовского университета
Превью
Профессор Николай Александрович Григорьев — имя, которое хорошо знают врачи-урологи в России и за её пределами. Один из тех, кто стоял у истоков отечественной эндоурологии, автор учебных пособий, в том числе ставшей культовой книги «Эндоурология для чайников», учитель, наставник, хирург, который вырос в эпоху становления современной урологической школы.
В этом интервью профессор делится своим профессиональным путём, воспоминаниями о наставниках, ранними хирургическими впечатлениями и размышлениями о том, как менялась урология — от «открытой эпохи» до эры высоких технологий.
— Николай Александрович, расскажите, где прошло ваше детство и кто повлиял на выбор профессии?
Родился я 16 октября 1969 года в городе Наро-Фоминске. Там дислоцировалась Кантемировская дивизия, где служил мой дед — начальником штаба, поэтому и место рождения оказалось военным. Позже семья переехала в Москву, в район Солнцево. Родители к медицине отношения не имели: отец занимался изобретательской деятельностью и участвовал в создании Евразийского патентного ведомства, мама — инженер по текстильной промышленности.
В семье была атмосфера доверия, но когда я заявил, что хочу стать врачом, родители, конечно, пытались отговорить: «Ты же понимаешь, с чем тебе придётся иметь дело?» Но поддержали. На выбор повлияли друзья семьи — хирурги, харизматичные, умные, увлечённые люди. С ними я впервые почувствовал романтику медицины.
— Вы сразу знали, что хотите быть хирургом?
Да, ещё до поступления. В биологии было что-то притягательное, но, как только я понял, что это не про «мух», а про людей, выбор стал очевиден. Я поступил в Первый московский медицинский институт, впоследствии академию, а потом Сеченовский университет. С первых курсов хотел заниматься хирургией, но решающим моментом стала встреча с кафедрой урологии.
— Как произошёл этот «поворот» в сторону урологии?
На первых занятиях нас встретил преподаватель Андрей Зиновьевич Винаров. Его обаяние и способность зажечь студентов были уникальны. Кафедра отличалась от других — там было внутреннее телевидение, специально снятые учебные фильмы, живая клиническая атмосфера. После первого же занятия я понял: всё, остаюсь здесь. С тех пор говорю, что в том, что я стал урологом, виноват Винаров.
— Каким было обучение в те годы?
Учёба была настоящей школой выживания. На кафедре анатомии, например, ты должен был знать всё — «почти всё» не принималось. Но именно там воспитывали дисциплину и уважение к профессии. Мы изучали материал на настоящих препаратах, сами готовили образцы, проводили отработки до позднего вечера. Это формировало фундамент, на котором потом строится хирург.
— Вы упомянули, что попали в экспериментальную субординатуру по урологии. Что это было?
Это был шестой курс, и нам предложили пройти субординатуру не по общей хирургии, а сразу по урологии. Тогда это был эксперимент. Идея принадлежала Вагаршаку Арамаисовичу Григоряну, заместителю декана. Нас было всего двое — я и Дмитрий Георгиевич Цариченко. Мы попали в клинику, где заведовал Юрий Антонович Пытель.
Пытель был человеком колоссальной внутренней силы. Его клиника держалась на строгом порядке: засученные рукава, медицинские колпаки, безукоризненная дисциплина. Разборы больных превращались в настоящие академические конференции. Для нас это была школа мышления и уважения к деталям.
— Какие впечатления остались от первых хирургических шагов?
Первую операцию — циркумцизию — я запомнил навсегда. Казалось, руки не мои, инструменты живут своей жизнью. Рядом стоял наставник Тимур Давидович Датуашвили — спокойный, мудрый, но требовательный. После операции он сказал: «Ну, теперь ты хирург».
Позже в ординатуре я стал дежурным по клинике, оставался один на отделение и реанимацию. Это было серьёзное испытание, ведь ни интернета, ни мобильных телефонов. Только знания, книги и телефонный звонок шефу по вечерам: «У нас всё спокойно».
— Кто был вашим главным наставником?
Я всегда говорю, что мне повезло с учителями.
Юрий Антонович Пытель — строгий, но невероятно эрудированный человек.
Андрей Зинович Винаров — человек, заразивший любовью к урологии.
Юрий Геннадьевич Аляев — мой главный учитель, человек, который дал путёвку в жизнь и вдохновил заниматься наукой.
Они все разные, но каждый вложил часть себя. От одного я взял систему, от другого — страсть, от третьего — масштаб взгляда.
— Вы упомянули ультразвуковую диагностику. Она стала частью вашего пути?
Да, после ординатуры я провёл почти два года в ультразвуковом кабинете. Мой наставник Александр Валентинович Амосов – потрясающий педагог. Мы вместе начинали выполнять пункции кист и нефростомии под контролем УЗИ — тогда это было новаторство. Постепенно это переросло в первые шаги перкутанной хирургии.
— Ваша клиника была одной из первых, где начали выполнять перкутанные операции?
Да. Сначала на кафедре к перкутанной хирургии относились настороженно. Юрий Антонович Пытель считал, что любые «протыкающие» операции — это ковырятельство. Но время шло, и стало ясно, что без эндоурологии дальше нельзя. Мы начали осваивать метод, изучая книги, наблюдая на конференциях за Алексеем Георгиевичем Мартовым, перепробовали всё сами.
Первые вмешательства давались тяжело: без системы координат, без наставника, фактически на энтузиазме. Но постепенно появилась уверенность. И когда всё получилось, я понял: за этим — будущее.
— Так появилась «Эндоурология для чайников»?
Да, идея родилась из практики преподавания. Я тогда был заведующим учебной частью кафедры и видел, что учебников много, но нигде не написано «как это делается». Мой коллега сказал: «Надо написать книгу не о патогенезе, а о том, как держать инструмент».
Название подсказала жизнь. Когда я впервые купил компьютер, то ничего не понимал, пока не нашёл книжку Word для чайников. Там всё было просто: нажми сюда, сделай это. Я подумал — вот же идеальная структура обучения. Так появилась Эндоурология для чайников. Она помогла многим врачам, и это, пожалуй, самое ценное признание.
— Расскажите о вашей кандидатской диссертации.
Тему предложил Юрий Геннадьевич Аляев — ксантагранулематозный пиелонефрит. Болезнь редкая, наблюдений было около тридцати — для того времени много. Мы показали, что не все формы требуют нефрэктомии, а часть можно лечить консервативно. Именно этот материал мы представили на Европейском конгрессе урологов.
Помню, как волновался: английский тогда давался трудно, а я стоял перед залом с плакатом, оформленным как художественное произведение. После выступления мы получили приз за лучший постер дня. Для молодого врача это было вдохновением невероятной силы.
— Как вы оцениваете сегодняшнее поколение урологов?
Я очень рад, что молодые урологи думают, задают вопросы, стремятся к технике и знанию. Сейчас обучение стало системнее, но всё ещё не хватает навыков, которые невозможно приобрести без практики. Именно поэтому я всегда готов делиться опытом. Если можешь сделать так, чтобы кто-то повторил меньше ошибок — сделай это. Врач должен воспроизводить качество, а не только результат.
— Что для вас сегодня урология?
Это сочетание ремесла и философии. Урология учит точности, вниманию, терпению и в то же время позволяет творить. Любая операция — это диалог с анатомией и временем. Урология меняется, но её суть остаётся прежней — помогать человеку сохранить здоровье и достоинство.
Путь профессора Николая Александровича Григорьева — пример того, как личная страсть и научная дисциплина формируют врача, способного менять профессиональную среду. От ученического восторга перед кафедрой урологии до создания собственной школы эндоурологии — это история преемственности, уважения к учителям и безусловной верности профессии.
Его имя стало символом практической мудрости и открытости: профессор Григорьев продолжает учить коллег не только технике, но и тому, что медицина — это прежде всего человеческое искусство.